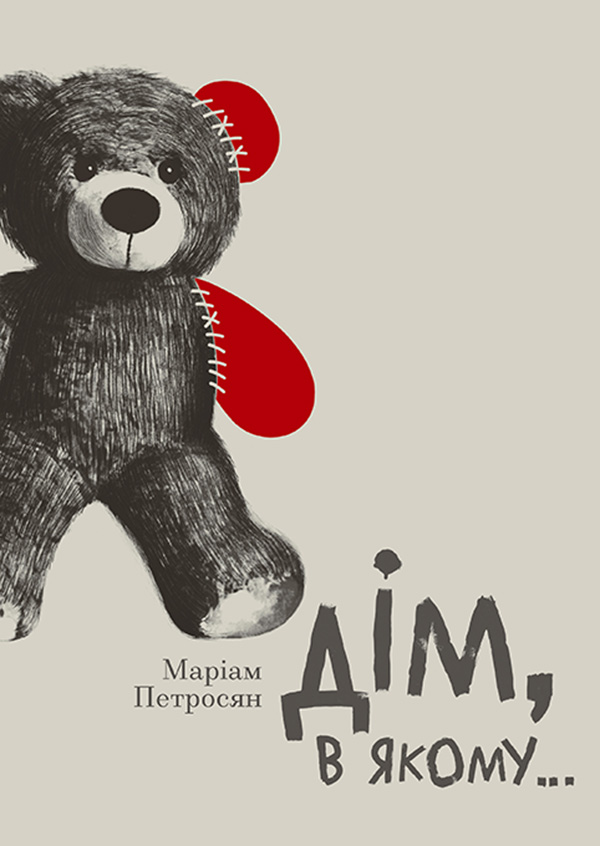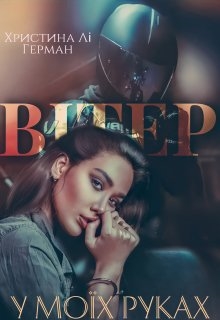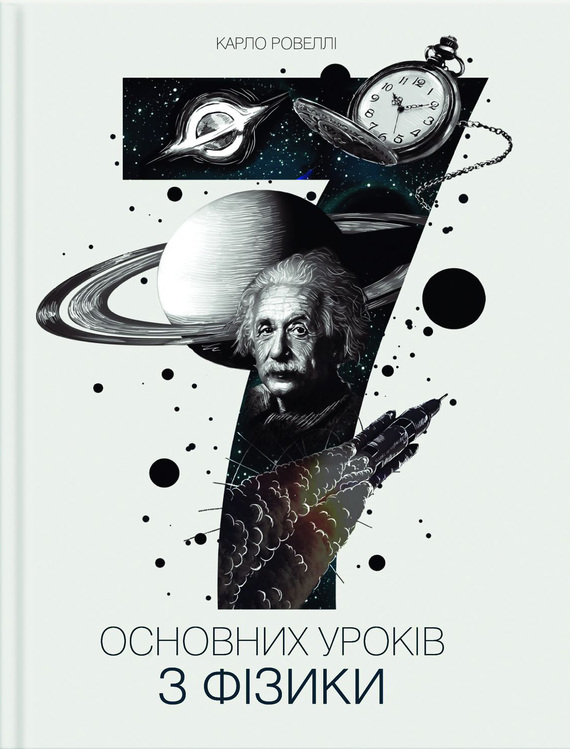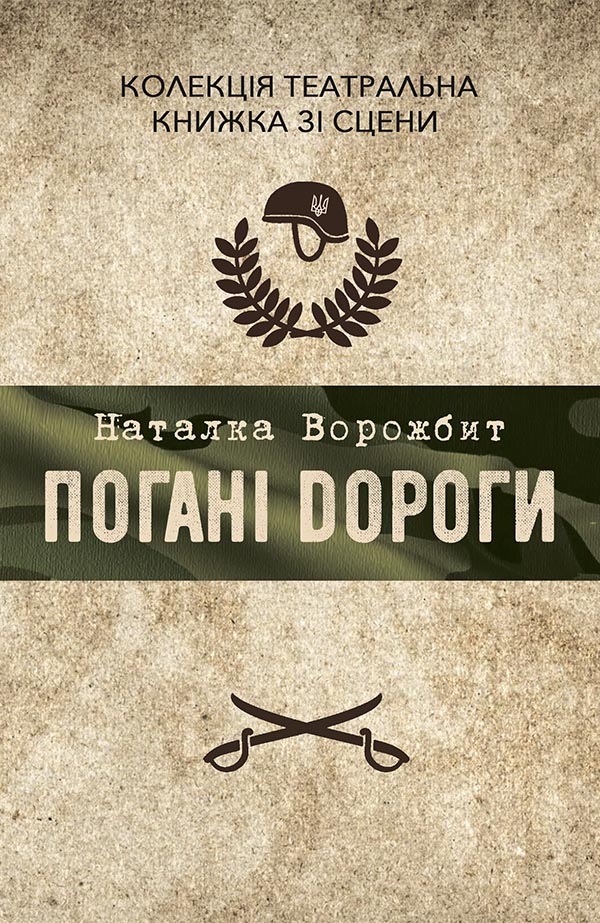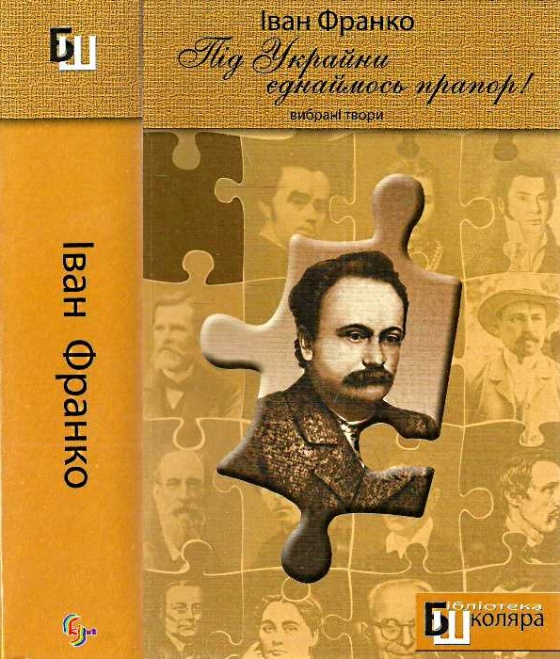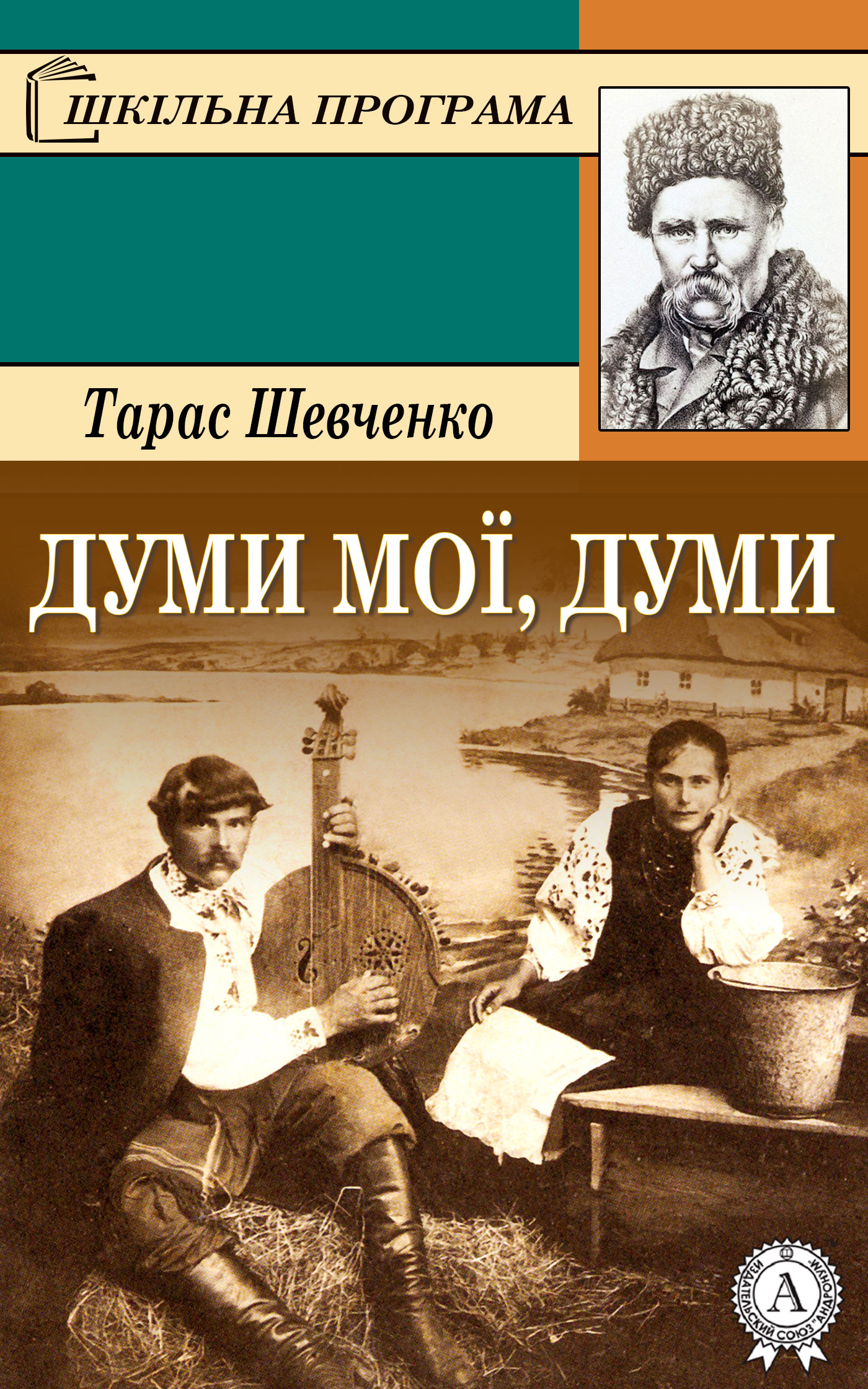Читати книгу - "«…Моє дружнєє посланіє». Вибрані твори"
Шрифт:
Інтервал:
Додати в закладку:
– Я не знаю, что ты слышал.
– Мне говорил вчера хозяин, что я… И он остановился, как бы боясь окончить фразу, и, помолчав немного, едва слышно проговорил: – что я отпущен!., что вы… – И он залился слезами.
– Успокойся, – сказал я ему– это еще только похоже на правду– Но он ничего не слышал и продолжал плакать.
Через несколько дней выписался из больницы и поместился у меня на квартире, совершенно счастливый.
Много, неисчислимо много прекрасного в божественной, бессмертной природе, но торжество и венец бессмертной красоты – это оживленное счастием лицо человека. Возвышеннее, прекраснее в природе я ничего не знаю. И этою-то прелестию раз в жизни моей удалося мне вполне насладиться.
В продолжение нескольких дней он был так счастлив, так прекрасен, что я не мог смотреть на него без умиления. Он переливал и в мою душу свое безграничное счастье. Восторги его сменялись тихой, улыбающейся радостью. Во все эти дни хотя он и принимался за работу, но работа ему не давалась, и он, было, положит свой рисунок в портфель, вынет из кармана отпускную, прочитает ее чуть не по складам, перекрестится, поцелует и заплачет.
Чтобы отвлечь его внимание от предмета его радости, я взял у него отпускную под предлогом засвидетельствования ее в гражданской палате, а его каждый день водил в академические галереи. А когда было готово платье, я, как нянька, одел его, и пошли мы в губернское правление. Засвидетельствовавши драгоценный акт, сводил я его в Строганова галерею, показал ему оригинал Веласкеса, и тем кончились в тот день наши похождения.
На другой день, часу в десятом утра, одел я его снова и отвел к Карлу Павловичу, и как отец любимого сына передает учителю, так я передал его бессмертному нашему Карлу Павловичу Брюллову.
С того дня он начал посещать академические классы и сделался пансионером Общества поощрения художников.
Давно уже я собирался оставить нашу Северную Пальмиру для какого-нибудь смиренного уголка гостеприимной провинции. В текущем году желаемый уголок опростался при одном из провинциальных университетов, и я не преминул воспользоваться им. Во время оно, когда я посещал гипсовый класс и мечтал о стране чудес, о всемирной столице, увенчанной куполом Буонаротти, – в то время, если бы мне предложили место рисовального учителя при университете, я бросил бы карандаш и воскликнул: – Стоит ли после этого изучать божественное искусство! – А теперь, когда уравновесилось воображение со здравым смыслом, когда в грядущее не сквозь радужную призму, а так просто смотришь, то против воли лезет в голову поговорка: «Не сули журавля в небе, а дай синицу в руки».
Еще зимою мне следовало отправиться на место, но кое-какие собственные делишки, а в особенности дело ученика, теперь уже не моего, а К. Брюллова, меня задержали в столице, потом болезнь его и продолжительное выздоровление и, наконец, финансы. Когда все это пришло к благополучному концу, я, как сказал уже, приютил своего любимца под крылом Карла Великого и в первых числах мая оставил, и надолго оставил, столицу.
Оставляя возлюбленного моего, я передал ему свою квартиру с мольбертом и прочею мизерною мебелью и со всеми гипсовыми вещами, которые тоже нельзя было взять с собою. Советовал ему до следующей зимы пригласить товарища к себе, а зимой приедет к нему Штернберг, который был тогда в Малороссии и с которым я условился встретиться у одного общего знакомого нашего в Прилуцком уезде и при этой встрече [собирался] просить добрейшего Вилю, по возвращении в столицу, поселиться с ним на квартире, что и случилось к величайшей моей радости. Советовал еще ему посещать Карла Павловича, но осторожно, чтобы не надоедать ему частыми визитами, не манкировать классами и как можно больше читать, а в заключение просил его писать мне чаще письма, и писать так, как он бы писал отцу родному.
И, поручивши его покрову предвечной матери, я расстался с ним, и, увы, расстался навеки.
Первые письма его однообразны и похожи на подробный монотонный дневник школьника, и только для меня они интересны, ни для кого больше. В последующих письмах начали проявляться и склад, и грамотность, а иногда и содержание, как, например, девятое письмо.
«Сегодня, в десятом часу утра, свернули мы на вал картину распятия Христова и с натурщиками отправили в лютеранскую Петропавловскую церковь. Карл Павлович поручил мне сопровождать ее до самой церкви. Через четверть часа он и сам приехал, при себе велел натянуть опять на раму и поставить на место. Так как она не была ещё покрыта лаком, то издали и не показывала ничего, кроме темного матового пятна. После обеда пошли мы с Михайловым{138} и покрыли ее лаком. Вскоре пришел и Карл Павлович; сначала сел он на передней скамейке; недолго посидевши, он перешел на самую последнюю. Тут и мы подошли к нему и тоже сели. Долго он сидел молча и только изредка проговаривал: – Вандал! Ни одного луча свету на алтарь. – И для чего им картины? – Вот если бы, – сказал он, обращался к нам и показывая на арку разделяющую церковь, – если бы во всю величину этой арки написать картину «Распятие Христа», то это была картина, достойная богочеловека.
О, если бы хоть сотую, хоть тысячную долю мог я передать вам того, что я от него тогда слышал! Но вы сами знаете, как он говорит. Его слова невозможно положить на бумагу, они окаменеют. Он тут же сочинил эту колоссальную картину со всеми мельчайшими подробностями, написал и на место поставил. И какая картина! Николая Пуссена{139} «Распятие» – просто суздалыцина{140}, а про Мартена и говорить нечего.
Долго он еще фантазировал, а я слушал его с благоговением; потом надел шляпу и вышел, а вслед за ним и я с Михайловым. Проходя мимо статуй апостолов Петра и Павла, он проговорил: Куклы в мокрых тряпках! А еще с Торвальдсена! – Проходя мимо магазина Дациаро, он вмешался в толпу зевак и остановился у окна, увешанного раскрашенными французскими литографиями. – Боже мой, – подумал я, глядя на него, – и это тот самый гений, который сейчас только так высоко парил в области прекрасного искусства, теперь любуется приторными красавицами Гревидона{141}. Непонятно! А между прочим, правда.
Сегодня в первый раз я не был в классе, потому что Карл Павлович не пустил меня, усадил нас с Михайловым за шашки двоих против себя одного и проиграл нам коляску на
Увага!
Сайт зберігає кукі вашого браузера. Ви зможете в будь-який момент зробити закладку та продовжити читання книги ««…Моє дружнєє посланіє». Вибрані твори», після закриття браузера.